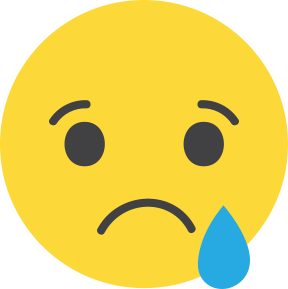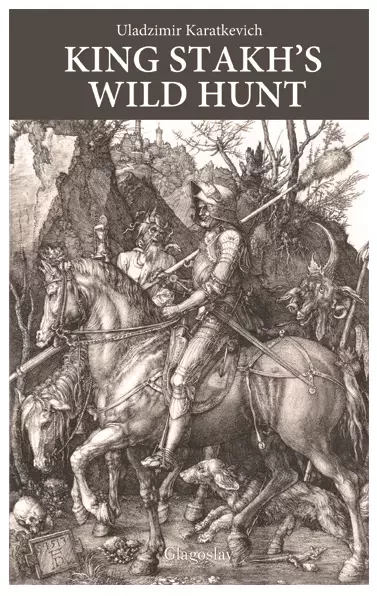В первом за 2017 год номере журнала «Rethinking Marxism» опубликована статья Елены Гаповой (работающей в США исследовательницы из Беларуси) «Земля под белыми крыльями: романтическое преобразование ландшафта (landscaping) в социалистической Беларуси».
Гапова выстраивает свой анализ в традиции социологии, которую можно обозначить как материалистическую. Ей присуще внимание к взаимоотношениям во власти, властным интересам и к классам, которые группируются этими интересами, потреблением, стилем жизни и т. д.
Впервые в переводе на английский язык «Дикая охота короля Стаха» вышла в Москве в 1964-м. Исправленный перевод переиздан в 2012-м.
Ландшафт, география, производство смыслов
В центре внимания — вопрос о том, как в 1960-е годы начало меняться видение Беларуси. Гапова концентрируется на понимании элементов ландшафта — природы, архитектурных памятников. При этом возникает необходимость осветить также историческое сознание и проектирование личности.
В качестве базы для своего анализа Гапова использует «некоторые произведения из культурной памяти и репрезентации пространства» 1960—1970-х, преимущественно художественные тексты, в меньшей степени — научные. Больше всего внимания среди этих интеллектуальных проектов логично уделено наследию Короткевича.
Социалистический символизм: модернизационный рывок и завоевание природы
Исходным пунктом анализа для автора служит семантический корпус, обслуживавший советскую модерность. До 1960-х годов белорусская советская идентификация включала несколько символических элементов, связанных с ландшафтом, которые замыкались на двух основных «политизированных доктринах».
Во-первых, болото служило «метафорой тягот и нужды», «аграрной отсталости», характеризовавших по большей части историю Беларуси.
Освобождение от этой отсталости принесла советская модернизация. Консолидированно эта метафора демонстрируется, например, в «Людях на болоте» («программный соцреалистический роман»), где наступление на болото концептуализирует более глобальные советские преобразования. Практическим продолжением подобного понимания была мелиорация — одно из многих достижений советской модерности в Беларуси.
Не меньшую роль играли коннотации, связанные с осмыслением Беларуси как «республики-партизанки».
Литературное и историческое видение эксплуатировало образы природы для концептуализации трагедии Второй мировой войны, и одновременно — белорусского советского сопротивления. В такой роли природа предстает в «Лесной песне» Адама Русака и в «Молодость моя, Белоруссия» «Песняров».
Романтический поворот: индивидуум, наследие, нация
В ряде художественных и научных произведений в 1960—1970-х, показывает Гапова, такое понимание ставится под вопрос и преодолевается. В рамках альтернативного романтического нарратива Беларусь начинает представляться в первую очередь через замки, а не через болота.
Трактуя замки как важную составляющую идентичности Беларуси эпохи, предшествовавшей социализму, «интеллектуалы и академические ученые пересматривали белорусскую историю и культурный миф».
Заново формируя представление о Беларуси, выходят многочисленные книги, появляются картины, исследования и фильмы, в которых в том числе использованы архитектурные достопримечательности для пересмотра с романтических позиций концептуализации Советской Беларуси.
Особое место в этом интеллектуальном взрыве принадлежало Короткевичу. Он осознанно ставил целью обогатить белорусскую литературу на уровне жанров, тем и художественных техник. Отчетливее всего это можно проследить в «Дикой охоте», где сложно переплетены актуальное для Советской Беларуси целеполагание, историческая политика и готический сюжет с материалистической развязкой. Он «разыгрывает» такие типовые тропы и метафоры, как образы и сюжеты упадка, смерти, запустения, таинственности старинных преданий.
Некоторые образы разработаны им также в эссе «Земля под белыми крыльями», где уже сам заголовок показывает, как природа может служить ресурсом представления нации.
Наиболее открыто романтическое понимание «пространственной материальности» сформулировал археолог Михась Ткачев. Ему принадлежит интеллектуальное усилие, связанное с первоочередной необходимостью атрибутировать замки на территории БССР как собственно белорусские.
До Ткачева исследователи описывали их в рамках соответствующих периодов — как древнерусское, литовское, польское наследие. Ткачев в книге «Замки Беларуси» (1977) составил каталог такого рода памятников, сохранившихся в административных границах БССР и авторитетно представил их как наследие белорусов. Как романтик, Ткачев избежал в книге свойственного марксизму упоминания о людях, страдавших под игом этих замков, замечает Гапова.
Такая интерпретация белорусской архитектуры противопоставляется советской. Тот советский нарратив рассматривал замки и имения как памятники эксплуатации, а в послевоенное время власть без промедления пожертвовала целыми историческими комплексами (как Немига) — ради очередных проектов советской модернизации. Более того, романтическое переосмысление Беларуси критически пересматривало результат советской «политики пространства»: она стала рассматриваться как деструктивная в отношении наследия и идентичности края.
Другим примером романтического пересмотра советской версии истории Беларуси, который анализирует Гапова, является фигура Скорины.
По мнению исследовательницы, в 1960-х происходит многофакторный рост его популярности. В это время он прочно закрепляется в культурной памяти как деятель белорусской культуры, при этом отдельные исследователи включают его деятельность в европейский контекст (так делал Вячеслав Зайцев). О Скорине пишет патетические стихи Короткевич, в планах — установить памятник перед зданием Академии наук и др.
«Конечно, Скорина не мыслил себя в понятиях современной политической географии; однако его творчество было атрибутировано как белорусское культурное наследие», — подытоживает Гапова.
Эти исторические поиски были частью романтического проекта «индивидуализация», объясняет автор. «Моральное пространство социализма заменялось скорее гуманистическими, чем классовыми ценностями и эмоциональными диапазонами». На место классов и построения коммунизма пришло сакрализованное общество — нация, работать на пользу которой призывались наполненные новым смыслом личности. Гапова показывает, что именно об этом пишет Короткевич в «Дикой охоте». Именно «эмоциональным отношением к своему народу, угнетенному и безропотному» мотивирует выбор своей профессии Белорецкий.
Именно в служении «сакрализованному единству — нации и природе одновременно» виделось значение жизни. Построение коммунизма, само собой, не укладывалось в эту задачу.
Причины новаций: материальные перемены, борьба за власть
Наконец, встает вопрос о предпосылках и движущих силах этого пересмотра.
Мирослав Грох высказал мнение, что романтизм как таковой питается прежде всего чувством социального отчуждения, вызванного ощущением опасности и нарушенной гармонии. В соответствии с этим Гапова объясняет распространение романтических идей в БССР как ответ на специфическую тревогу общества позднего социализма. Она была связана с социальной динамикой 1960—1980-х: ирония в том, что это беспокойство было обусловлено развитием советской модерности.
Рассматриваемое двадцатилетие было временем стремительной урбанизации: в 1960—1980 гг. доля городского населения в демографической структуре удвоилась. Разумеется, большинство новых горожан были родом из деревень. «Городская жизнь могла быть определенным вызовом для этого поколения», — замечает Гапова. Этот вызов исходил из очень резкой перемены одного образа жизни на другой (сельского на городской).
Следствием этого напряженного перехода стал масштабный экзистенциальный кризис, охвативший советское общество. Как и протагонист «Дикой охоты», городские советские белорусы ощущали, что теряют цель в жизни. Ответом на этот семантический дефицит стала «Дикая охота». В ней писатель представил новое целеполагание для своих современников, прежде всего для ученых-гуманитариев. И Белорецкий, и главный герой «Черного замка Ольшанского» — высокообразованные специалисты, которые направляют свои знания на благо соотечественников.
Такое перенаправление «чувства цели и принадлежности» академических профессионалов Елена Гапова связывает с восхождением новых элит — интеллектуалов и литераторов, которые бросают вызов коммунистической «повестке дня мирового существования человечества». Новые способы «проживания модерности» Короткевича включают прежде всего превращение профессии в форму служения нации и стране. Из такого превращения следовала новая нравственность и новая цель — возможность «влиять на ход истории, то есть, быть значимым в более широкой схеме бытия, сопротивляясь несправедливости».
Однако эта «vita activa» и производство чего-то нового через практики доступны далеко не всем представителям нации, а лишь избранным единицам. Они-то и формируют интеллигенцию, которой Короткевич и романтическое миропонимание отводят особую — ведущую — функцию в обществе. Речь идет о таких людях, как Белорецкий, — «ученый и интеллектуал, представитель специфической группы тех, кто действует и ведет».
Таким образом, интеллектуальные усилия и поиск новых символических форм локализуется Гаповой в борьбе одних за власть над другими, как вызов, брошенный интеллектуалами компартии — точнее, предложенному ее идеологами порядку бытия человечества в мире. В этом смысле данный текст — приквел более ранних статей автора о классовом интересе интеллигенции в постсоветской Беларуси, вызвавших весьма интенсивную дискуссию.