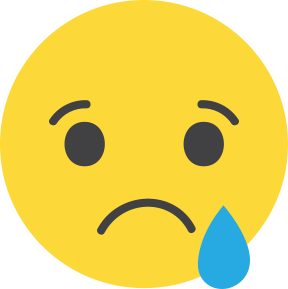— Как дела с «Революцией»? Я, конечно, имею в виду ваш последний роман, у которого уже были проблемы. Не боитесь попасть в список «экстремистской» литературы?
— Книга уже продается в государственных книжных магазинах — я так понимаю, что те, от кого зависела ее судьба, осознали, что это художественное произведение, действие которого происходит в Москве, в нулевые годы. И запрещать его не следует. Тем более что история запрещения моего первого романа «Паранойя» лишь добавила интереса к нему.
«Революция» читается, активно комментируется. Надо сказать, что многих разочаровывает имеющийся в романе пессимистический месседж, многие ждали какого-то ободрения. Как выразился один из читателей, это история преобразования хорошего человека в плохого через причастность к определенной власти.
Роман сейчас вышел в России, продается во всех московских книжных магазинах, в «Доме книги», его успех в Германии впечатляет, так как мы попали на телевидение, были рецензии в очень престижных изданиях.
— Как раз насчет пессимистичности… Несколько ваших последних интервью и высказываний как раз таки наполнены этим самым пессимизмом. Конечно, вы скажете, что это на самом деле реализм и объективная оценка ситуации. Но можно спорить насчет уместности и своевременности каких-то оценок. Человеку, который умирает, совсем не обязательно ежедневно напоминать, что он умирает. Но вы настаиваете на своих оценках, так как это ваши ощущения, и вы не хотите от них отступать, даже если это «неполиткорректно» или несвоевременно?
— Из-за излишнего оптимизма случаются ошибки у людей, которые не осознают, где оказались. Да, человеку, который умирает, не следует постоянно говорить, что он умирает. Но сказать, что он умирает, ему нужно, если он этого не понимает. И когда знаешь, что ты смертельно болен, то строишь свою жизнь по-другому.
Я прекрасно осознаю, что некоторые мои интервью могут быть демотивирующими, и поэтому я стараюсь не бряцать этими словами слишком много. Но когда я вижу… Это было особенно актуально летом, когда все ошалели от очень трогательного захватившего всех единства. Я тогда был просто вынужден обратить внимание на то, что этот карнавал имеет чуточку похоронный оттенок. Кем бы я был, если бы об этом не предупредил? Возможно, многие вещи лучше видны человеку, читающему книги, а не человеку, читающему телеграм-каналы.
Но ваш упрек я принимаю. Я понимаю, что любые слова моделируют реальность, не столько отражают ее, сколько задают определенный настрой. Я знаю, что есть люди, которые прислушиваются ко мне.
Однако сейчас не тот момент, когда я могу сказать что-то утешительное. Ведь если я скажу что-то утешительное и кто-то из-за этого сделает некий шаг, который искалечит судьбу человека, я буду испытывать огромную ответственность. Гораздо большую, чем ответственность, вытекающую из того, что я никого не подбадриваю.
— Некоторые ваши произведения с определенной долей условности можно назвать антиутопией («Мова», «Ночь», да и «Паранойю»). И вы теперь, наверное, не можете избежать соблазна, чтобы не находить в нынешней белорусской жизни параллелей с вашими произведениями. Не кажется ли вам, что мы углубляемся в какую-то антиутопию и людям остается гадать, то ли это Оруэлл, то ли Хаксли, то ли Мартинович?
— Роман «Мова» был написан как предупреждение. Он был написан ради того, чтобы будущее, которое там описано, никогда не состоялось. То, что сейчас происходит с культурными мероприятиями, со всем, что имеет приметы белорусскости, — это осуществление сценария, описанного в «Мове». И роль Китая в Беларуси растет, чайна-тауна пока нет, но он будет.
Я чувствую сейчас, что сердце этой страны перестало биться. Та страна, которую мы знали, которую любили, умерла, больше не существует. Мы сейчас находимся на стадии чистилища. И мы можем из этого чистилища пойти в ад (и все к этому идет), а можем пойти в рай.
Я человек культурный, живу культурой. И теперь все, что я любил, либо запрещено, либо невозможно. Я этого не предсказывал — происходящее сейчас простирается дальше любой моей фантазии, даже самой мрачной.
— События в Беларуси наводят на множество философских размышлений, например насчет того, что можно сотворить с людьми за относительно короткое время — в Европе, в XXI веке. Возможно, даже самые пессимистичные личности не могли представить те масштабы зверств и пыток, которые произошли в Беларуси в 2020-м. Как такое стало возможно?
— Чтобы такое стало возможным, требовалось одно условие — анонимность. Ощущение, что ты это делаешь, как какой-то винтик в системе. Кстати, об этом есть песня в новом альбоме Лявона Вольского. Анонимность зла — это самое страшное, это даже пострашнее банальности зла, про которую писала Арендт. Эйхман точно знал, что он делает, какие приказы выполняет. А в случае анонимности зла «Эйхман» исчезает, все делает некая анонимная, невидимая структура. И человек, превратившийся в структуру, способен на большее зло, потому что он становится функцией.
— При этом если им отдают приказ быть спокойными и вежливыми, — то они могут быть такими. И в остальном, за рамками служебной жизни, они, возможно, обычные люди — мужья и родители. Но когда им дается разрешение «задержанных не жалеть» — они мгновенно становятся как звери.
— У меня есть на эту тему роман «Сцюдзёны вырай». Там именно это превращение людей нормальных, семейных, в людей функциональных описано. Мне нечего добавить.
— Был ли вариант, что этот режим мог пройти определенную эволюцию и превратиться в нечто более спокойное и гуманное? Или возможен только нынешний путь — система от нас не уйдет без крови и страданий?
— Трагедия в том, что я не считаю, что система уходит. То, что мы наблюдаем сейчас, — это скорее укрепление системы, превращение болотной жижи в бетон. Если бы не было августовских событий, то, конечно, было бы менее страшно. Но ситуация бы законсервировалась, то вялое безвременье, в котором мы жили, сохранилось бы навсегда. Сейчас есть небольшой шанс, что люди, которые принимали не очень активное участие в событиях 2020 года, открутят назад, что наступит какая-то оттепель.
Но у меня нет даже близкого ощущения, что система уходит, что есть какие-то шансы на то, что идеи, захватившие народ в августе, победят.
Мы видим, как весь этот «движ», все, что было фундаментом перемен, этот креативный класс людей, сейчас просто либо вытеснен за пределы страны, либо переведен в состояние пассивности. Каких-то двигателей, которые позволяли бы считать, что что-то будет меняться, я не вижу. Номенклатура, оставшаяся в системе, укрепилась до состояния бетона. Это не дает надежд, что начнутся изменения внутри нее. И чем больше давление извне, тем больше укрепляется эта система.
— Сейчас книги признаются экстремистскими, возбуждаются уголовные дела за картину, закрываются выставки. Режим борется с культурой и символами как знаком и маркером оппозиционности? Или, может быть, сама культура и история уже стала врагом, даже если нет признаков оппозиционности?
— Действительно, есть что-то принципиально новое. Раньше боролись с бело-красно-белым флагом как с маркером оппозиционности. Но сейчас это не борьба с признаками. Они [власть] осознала, что культура — это для власти основной вызов. Когда у меня спрашивают: неужели власть не осознает последствий того, что уезжают самые лучшие, яркие и талантливые, разве власть не понимает, что это ослабляет нашу культуру? — то я отвечаю: нет, это сделано намеренно. Они почувствовали, что культура — это первичный вызов. Что именно культура привела постепенно к новой ситуации. Поэтому и идет борьба с культурой как таковой — как это было с выставкой о медиках.
Но страна должна жить. И страна живет не только тракторами, она живет культурой. Ощущение жизни возникает, лишь когда бурлит какое-либо культурное течение. И это сейчас полностью исключено государством. Невозможно не только театральное мероприятие, невозможно даже книжную презентацию, художественную выставку провести. И это то, что отличает наше время от времен десятилетней давности.