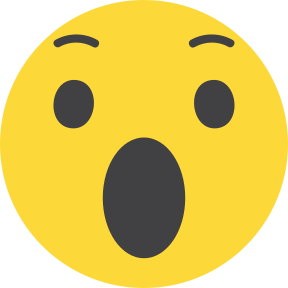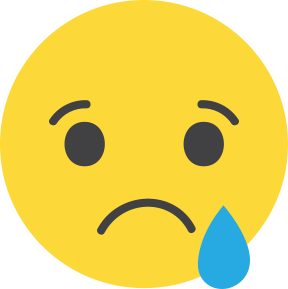На своем надгробном памятнике на Восточном кладбище Минска Крапива напоминает Ювенала, в лавровом венке
Нестабильность и шаткость
Первыми белорусскими литераторами, удостоенными звания «Народный поэт БССР», стали в 1925 и 1926 годах Янка Купала и Якуб Колас. Само звание тогда юридического статуса, правда, не имело — обоим песнярам только присвоили 17-й, высший, класс государственного служащего и стали платить соответствующий этому классу ежемесячный оклад. А в 1956 году звание «Народный писатель БССР» получило официальный статус и было наконец присвоено снова. Удостоился его Кондрат Крапива.
Сегодня, когда советская литература воспринимается уже как нечто далекое, такой выбор кажется вполне закономерным. Литературная биография Кондрата Крапивы — довольно слащавый миф, имеющий мало отношения к действительности, но сформированный бесконечным тиражированием в школьных и университетских учебниках.
Этот миф с образом вроде бы сатирика, но ручного, вызвал и вызывает естественное отторжение. И вот уже кто-то из нового поколения рисует вечно мрачного, пасмурного старика, который потихоньку храпит на заседаниях, форумах и съездах и боится слово сказать вопреки установкам сверху.
«Герой Социалистического Труда, народный писатель Беларуси, доктор филологических наук, академик Академии наук БССР, депутат Верховного Совета БССР нескольких созывов, лауреат Государственных премий СССР и БССР…». Множество званий, премий и наград будут лучшим доказательством прямолинейному подходу: обласканный властью — значит, ничего литературно достойного не мог создать по умолчанию. И может ли в принципе совмещаться такое официальное признание с какой-то самостоятельностью на литературном поле?
Кондрат Крапива
(наст. Кондрат Кондратьевич Атрахович, 1896—1991), уроженец небольшой деревни Низок Узденского района, из которой, кроме него, вышли еще поэт Павлюк Трус и писательница Лидия Аробей.
До Первой мировой войны успел, отучившись в городских училищах в Столбцах и Койданово, сдать экстерном экзамен на звание народного учителя и год поработать в Мнишанах на Воложинщине. Потом воевал, в 1-й половине 1920-х учительствовал на родной Узденщине.
В 1925 году переехал в Минск, окончил БГУ. Работал в Инбелкульте, редакциях газет. Был членом литературных объединений «Маладняк» и «Узвышша».
После Второй мировой войны сделал карьеру в научной сфере, был директором Института языкознания, вице-президентом Академии наук БССР, академиком. Академические словари белорусского языка, которые используются и поныне, выходили под его редакцией и часто ассоциируются именно с ним.
Первое стихотворение опубликовал в 1922 году и продолжал писать до 1980-х. В основном его имя известно по многочисленным басням, большинство которых написано еще до войны («Дыпламаваны баран», «Ганарысты парсюк», «Жаба ў каляіне», «Сука ў збане» и многие другие), а также по драматургическим произведениям («Хто смяецца апошнім», «Брама неўміручасці» и др.)
Однако при внимательном анализе биографии Кондрата Крапивы заметно, что «успешная» карьера этого автора, если мерилом успеха считать должности, премии и награды, началась только после Второй мировой войны. А к этому времени, то есть приблизительно к 50-летию, характерными чертами биографии Крапивы будут скорее нестабильность и шаткость.
Примечательно, что после триумфального показа в Москве комедии «Хто смяецца апошнім» в 1939 году Кондрату Крапиве за проявленную литературную отвагу в разгар репрессий против литературы и писателей в довесок к ордену Ленина вручили и мобилизационную повестку — его, как кадрового офицера, отправляли на печально известную своими несоизмеримыми потерями личного состава советско-финскую войну. Командиром пулеметной роты. Иначе говоря, ему был выписан ордер на геройскую смерть. Но он выжил.
Почему Крапива?
Главной причиной появления в 1956 году нового «народного писателя» была потребность в репрезентативности, создании иллюзии внешнего благополучия в белорусской советской литературе.
Янки Купалы на тот момент не было уже четырнадцать лет, Якуб Колас, слабый здоровьем (26 пневмоний в последние годы жизни) и откровенно уставший к тому времени от своей нелегкой жизненной и литературной судьбы, на роль парадной фигуры в «витрине литературы» уже не подходил. Да, впрочем, вскоре и умер. Но и допустить даже мысли об упадке, о том, что сейчас уже некому из белорусской литературы «держать прежнюю планку», было нельзя.
Кстати, партийный аппарат на протяжении всей советской эпохи четко отделял действительно значимых литераторов от второстепенных. Среди народных писателей Беларуси второстепенных литераторов практически нет. Достойный творец мог по каким-то причинам и не попасть в число «избранных», но посредственность крайне редко удостаивалась места в пантеоне.
Почему же в 1956-м на роль нового народного был выбран именно Крапива?
Тогда, на фоне хрущевской оттепели, наверное, было вполне возможно простить Крапиве его давнишнюю литературную дерзость и независимость, смелость комедии «Хто смяецца апошнім» (той, которую сам Пантелеймон Пономаренко редактировал-редактировал, да не доредактировал), недопустимый смех, граничащий с откровенным «стебом» в оценке советской системы и ее функционеров в блестящем «Мілым чалавеку», запрещенном после постановки в 1946 (!) году, да так и не возвращенном после на сцену, не говоря уже о «грубых ошибках и срывах» узвышенского периода.
Второй причиной было, скорее всего, то, что где-то в тогдашних верхах посчитали: непокорный сатирик и комедиограф укрощен и уже не доставит особых неприятностей.
Только закрытые сегодня архивы, возможно, расскажут, насколько серьезной была «проработка» Кондрата Крапивы после премьеры «Мілага чалавека». Но в том, что она была действительно жесткой, нет ни малейшего сомнения: десять лет после той злополучной премьеры он будет писать беззубые и безликие пьесы, в которых мало чего осталось от прежней язвительности.
Впрочем, подобное можно сказать пожалуй о каждом из значимых писателей советской поры. Советская система укрощала каждого по-своему, но исключений из правил среди народных практически нет. Почти у каждого есть длительные периоды творческого застоя, упадка, а то и молчания.
Феноменальная живучесть
Одним из главных качеств Кондрата Крапивы можно считать его феноменальную — в самом прямом смысле слова — живучесть. Он прожил на этом свете очень долго, почти 95 лет, и жил, можно сказать, один за всю семью. Из восьми старших братьев и сестер Кондрата Атраховича семеро умерли в детстве — выжила, кроме него, только одна сестра.
С семьей. Кондрата назвали Кондратом в честь отца: в старые времена в этом был народный заговор на жизнь. Так поступали, когда старшие дети в семье умирали.
И в зрелом возрасте было много возможностей до поры сложить голову. Крапива непосредственно участвовал в четырех войнах: Первая мировая в 1915—1918 годах; Гражданская в 1920—1922; советско-финская в 1939—1940, Вторая мировая в 1941—1942 годах. В последней, правда, он был уже не пехотным или кавалерийским офицером или командиром пулеметной роты, как в предыдущих, а фронтовым корреспондентом. Очевидно, что экзистенциальные проблемы в биографии Крапивы приходилось решать на том базовом уровне, без которого все последующие не имеют смысла.
К этому нужно еще добавить разностороннюю одаренность и врожденную храбрость. Зачисленный в начале Первой мировой войны в школу прапорщиков, выпускник народного училища Кондрат Атрахович успешно ее окончит и будет при ней же на короткое время оставлен как преподаватель для последующих новобранцев. А отправленный вскоре на австро-венгерский участок фронта, в армию легендарного генерала Алексея Брусилова, он и там себя проявит как блестящий фронтовой пехотный офицер, став георгиевским кавалером и за пару лет дослужившись до самого высокого среди белорусских писателей звания — штабс-капитана.
Впоследствии этот умом, храбростью и кровью заслуженный будущим писателем немалый офицерский чин вместе с Георгиевскими крестами принесет ему немало неприятностей — недоброе «офицер — золотые погоны» нет-нет да и промелькнет в отзывах «доброжелателей» в предвоенное время, а а образ легендарного Туляги из комедии «Хто смяецца апошнім», которого авантюрист Горлохватский шантажирует и использует тем, что тот якобы похож на знакомого ему в прошлом деникинского полковника, — непосредственная отсылка к собственной биографии автора.
1916 год.
Я спрашивал его о крестах — глянуть хоть одним глазком на золотого офицерского «георгия» было бы интересно. Как и посмотреть на молодого Крапиву в военной форме штабс-капитана, с шашкой и орденами на парадном мундире. Крапива лишь улыбнулся над моей неразумностью. Найденные при обыске, такие фотоснимки и регалии сами по себе уже означали смертный приговор: мол, хранишь, ждешь, что вернутся паны… Поэтому из снимков Крапивы в Первую мировую мне знаком только один — курсант школы прапорщиков в скромном мундире.
Кондрат Крапива не делился даже с детьми, за что конкретно получил награды на «царской войне». В автобиографии о боях с огромными человеческими жертвами на Румынском фронте написал лаконично: «Там я впервые получил боевое крещение, не раз бывал в серьезных переплетах, совершенно не зная, что это только цветочки и что впереди еще не одна война и не один переплет».
«Шаткость» положения Крапивы вытекала не только из политических либо общественных обстоятельств, а прежде всего из совокупности семейных «порывов» и «переворотов». После ранней смерти матери и нового брака отца Крапива утратил роль наследника, будущего хозяина и кормильца семьи, а вместе с этим — ранее вполне очевидные перспективы типичной крестьянской судьбы. Он вынужден был освободить ранее законное место в родительском хозяйстве и попытаться обеспечивать себя самостоятельно.
Совершенно необходимое ради всего этого новое конструирование собственной биографии завершится после двенадцати лет «временных» состояний переездом в начале 1925 года в Минск. Только с этого времени в траектории Крапивы появится четко направленный вектор: параллельно с литературной работой он, уже тридцатилетний писатель, в 1926 поступит в университет, который окончит в 1930 году.
Катя и Кондрат. Рисунок Анатолия Александровича. В 1915—1918 — на империалистической войне. Окончил Гатчинскую школу прапорщиков, был взводным офицером в учебной части в городе Осташков, что возле озера Селигер в России. В Осташкове Кондрат Атрахович влюбился в купеческую дочь Екатерину Абакшину, но отец велел ей идти замуж за другого. Уже пожилыми людьми Кондрат и Екатерина нашли друг друга и до 90 лет переписывались.
За пределы допустимого
Ворвавшись на литературный небосклон в начале 1920-х (импульсом для тогдашнего командира кавалерийского эскадрона Красной армии послужили прочитанные в газете юмористические стихи на родном языке), Крапива вскоре станет известным и популярным автором на страницах литературной периодики.
Записавшись в пролетарский по духу «Маладняк», он буквально на коленке ежедневно сочиняет острые, дерзкие, иногда вульгарные стихи и басни на злободневные темы. От него достается и мировой буржуазии, и консервативной белорусской деревне, и старшему писательскому поколению (нашенивцам или возрожденцам), и собратьям по литературному цеху — молодняковцам, и кулаку, и деревенской молодежи, и «пролетарскому» городу с его забавами, и театру, и балету, и т.д., и т.п.
Эта яркая поэзия, демонстрирующая превосходное владение народным языком и этот же язык блестяще модернизирующая уже для роли литературной, иногда — подчеркнуто агитационная, иногда — несправедливая (автору приходилось через пару лет дописывать извинения в сам текст стихотворения, например, Янке Купале в стихотворении «Янкавы казкі»), к сожалению, почти вся ушла за литературный горизонт и для современного читателя — школьного или даже университетского — практически недоступна.
Жена Елена Константиновна.
По возвращении с фронта Кондрат женился на Елене Махнач — ее семья переехала в Низок из деревни Замостье после того, как там сгорел их дом. Кондрат и Елена прожили вместе более 40 лет (супруга умерла в 1964 после тяжелой болезни). Кондрат пережил жену на два с половиной десятка лет. Трое из четырех его детей умерли или погибли при его жизни.
Крапива намеренно не включал многое из ранней поэзии (как и новеллистики) 1920-х ни в одно собрание сочинений, а то, что включал, — редактировал и приглаживал, иногда перерабатывая до неузнаваемости. Его можно понять: многие стихотворения и рассказы, написанные им в ту эпоху, в более поздние времена вполне тянули на обвинительную часть приговора сурового пролетарского суда или печально известной «тройки».
Повинуясь инстинкту настоящего сатирика, Крапива еще в молодняковский период часто выходил далеко за рамки дозволенного в ту пору. Например, в стихотворении «Пралетарый і буржуй. Блытаніца паняццяў» буржуй — это изможденный крестьянин в домотканой свитке, с черными мозолистыми руками: он — собственник, у него есть участок поля, дом с кривой соломенной крышей, лошадь, корова, пара свиней и жена с полдюжиной детей в придачу. А пролетарий — упитанный городской чиновник в пиджачной паре, с золотыми часами-луковицей и самодовольной мордой — у него, видите ли, ничего нет в собственности, лишь скромная зарплата госслужащего.
С делегатами «Маладняка». 1925 год.
Архивные материалы, из которых можно было бы судить о литературном рынке Беларуси первой трети ХХ века, читательских предпочтениях, писательских успехах и популярных книгах, свидетельствуют об оглушительной тогдашней популярности тоненьких поэтических сборников Кондрата Крапивы. Для поэзии это вообще редкость, а для крестьянской, а это значит скуповато-прижимистой, тогдашней Беларуси — феномен. Многие короткие эпиграммы и стихи сатирика, тот же «Балет», стали своеобразной народной поэзией и еще в 1980-е пересказывались бабушками и дедушками внукам — и на селе, и в городе.
Балет
Першы раз, як жыў на свеце,
Быў я ўчора на балеце,
Дык няхай яго з балетам!
Нежывога разбярэ там:
Як пакажа штукі ўсе,
Дык аж трасца затрасе.
Сеў я гэта й жду балета.
Тут як выскачыць кабета,
А на ёй дык (вось фасон!)
Не спадніца — парасон,
Ногі голыя і рукі
I — давай паказваць штукі:
Як павернецца бачком,
Як закруціцца ваўчком, —
Без касцей кабета, здэцца,
Як нагнецца ды мігнецца,
Ды пакажа сцегнякі, —
Аж вар’ююцца дзядзькі.
Цётка ж добрая не скупа:
Як заголіцца да пупа,
Як падыме йшчэ нагу,
Дык сказаць я не магу,
Што тут робіцца з дзядзькамі:
Плешчуць, ляскаюць рукамі,
Лямантуюць — «брава»! «біс»! —
Нібы іх кусае гіз.
А кабета — ножку вышай
I ў паветры кола піша
Так прынадна над партнёрам,
Аж… глядзець нек стала сорам.
Тут сусед мой — дзядзька гладкі —
Годзе ўжо даваць у ладкі,—
Ў захапленні выгнуў спіну
I, пусціўшы з рота сліну,
Небарака аж зароў,
Як бугай той да кароў.
Але тая маладзіцца,
Як стрыгунка-жарабіца,
Падбрыкнула ды бягом.
Ёй жа сыплюцца ўздагон
«Біс», і воплескі, і «брава», —
Не на жарты ўсіх забрала.
«Камуфляжная» стратегия
Крапива довольно быстро попрощается с «Маладняком» и станет одним из основателей «элитного» «Узвышша». Короткое пятилетнее пребывание в нем станет, наверное, самым счастливым и плодотворным периодом в его писательской жизни. В это время из его творчества уйдет трескучая агитационность, а объектом его блестящей сатиры становится уже не только деревня с ее мужиком.
Именно в «Узвышшы» Кондрат Крапива сосредоточится в поэзии на басне, а в прозе — на сатирическом повествовании. Именно в этих жанрах в полной мере проявилась доминирующая черта его творчества — смотреть на жизнь и на события с позиции мужика, крестьянского мира, мировоззрения и философии. Это было не совсем современно с позиций даже главных идеологов «Узвышша», Владимира Дубовки и Адама Бабареко. Но деревенский мир во времена «Узвышша» составлял 85% населения Беларуси, а впереди маячил недалекий уже «большой перелом», который навсегда сломал хребет деревенской Беларуси.
Первая литературная попытка была по-русски, еще при царе — послал стихотворения в журнал «Жизнь для всех» — оттуда ответили, что произведения не имеют художественной ценности. После этого Крапива 8 лет не писал. Сдав экстерном экзамен на народного учителя, год работал в деревне Мнишаны под Першаями.
Узвышенские рассказы Крапивы блестящи, но почти неизвестны широкому читателю. Многие из них («Кляса», «Падарожнае», «Вось тут і пішы») так и не вышли за рамки журнальной публикации, а многие впоследствии были переделаны до неузнаваемости («Хвост», «Ідэі»). Но даже те, которые в более или менее первоначальном виде вошли в его собрание сочинений, дают представление об их оригинальности и литературном уровне («Людзі-суседзі», «Мой сусед», «Певень»). В этих рассказах Кондрат Крапива умудряется создавать «образ в образе», делать подтекст равным самому тексту, всячески обособляясь, как автор, от объекта и субъекта повествования.
Писатель, по сути, создает ту «камуфляжную» стратегию, которая позволила ему позже вывести на театральные подмостки пьесы, немыслимые с точки зрения советской идеологической машины, и заплатить за это меньшую цену, чем многие его товарищи по «Узвышшы».
«Маладняк» и «Узвышша» — литературные объединения, существовавшие в БССР в 1920-е годы.
«Маладняк» возник в ноябре 1923 года как кружок молодых поэтов при одноименном журнале. Ставил себе официальную цель «идеи материализма, марксизма и ленинизма осуществить в белорусском художественном творчестве». Часто молодняковцы противопоставляли себя старшему поколению литераторов, находились в поисках новых форм творчества, нередко перебирая в этом меру.
«Узвышша» выделилось из «Маладняка» в мае 1926 года, его основатели постулировали в своей деятельности развитие традиций национального возрождения и творческое использование новаций мировой художественной культуры.
Хрестоматийный пример — рассказ «Вось тут і пішы», одно из самых замечательных произведений малой прозы 1920-х годов. Крапиве удается «впихнуть» в небольшой и очень яркий рассказ об отношениях узденского конокрада Янки и скупщика краденого Янкеля многоплановую и очень актуальную во все времена тему: о чем писать, как писать, для кого писать. И, наконец, после освещения этих вечных проблем литературы, — как не попасть в жернова советской идеологической машины, с которой шутки плохи…
Недописанный роман «Мядзведзічы» стал последним значительным прозаическим произведением Крапивы, после публикации которого и последующей холодной оценки критики он, по его собственным словам, навсегда покинул прозу и ушел в драматургию, где дела его пошли намного успешнее. «Мядзведзічы» — роман-хроника, в котором, несмотря на достаточно скромный объем, автору удалось вместить пятнадцать лет жизни деревни Медведичи и остановиться (не завершив произведение) перед самой коллективизацией. Многие считали этот роман, вместе с «Вязьмом» Михася Зарецкого и «Лявонам Бушмаром» Кузьмы Чорного, предысторией «Палескай хронікі» Ивана Мележа.
С женой, дочерью, сыном, невесткой.
Уникальные пьесы
Четырьмя своими пьесами («Канец дружбы», «Хто смяецца апошнім», «Мілы чалавек» і «Брама неўміручасці») Крапива, как мне кажется, входит в классический пантеон белорусской драматургии.
Каждая из этих четырех пьес уникальна: «Канец дружбы» — умением, максимально отклонившись от происходящего на сцене, вывести абсолютно правдивые характеры и коллизии суровой эпохи коллективизации в максимально реалистичном и жестком варианте (и это — в 1933 году!). Конечно, в ту эпоху дубоватый и карьеристичный Корнейчик был объявлен героем своего времени, а честный и компетентный Лютынский — «приспешником буржуазии», ну что ж…
Рабочий стол Крапивы в музее Узды. «ЗВЯЗДА», ФОТО ЕВГЕНИЯ ПЕСЕЦКОГО
«Хто смяецца апошнім» — самая хрестоматийная из пьес Крапивы. Никто из белорусских писателей не решился в 1939 году написать пьесу, в которой толчком к действию является ошибочный заход молоденького лейтенанта в форме НКВД в Институт геологии, куда директором, пройдя сквозь сито партийных инстанций, назначен абсолютный невежда и дилетант, но это неважно, лишь бы партийный да идейный был…
Уже упомянутый «Мілы чалавек» безжалостно расписал советскую бюрократическую систему и попал под запрет, канул в Лету, как и «Жартаўлівы Пісарэвіч» Максима Горецкого, — для обеих этих пьес белорусская сцена остается закрытой до сих пор.
И, наконец, «Брама неўміручасці», написанная Крапивой на закате восьмого десятка лет, в которой он беспощадно, со своих «узвышенских» позиций показал результат 60-летнего строительства социализма и воспитания «нового человека».
Кто только не пробивался к доктору Добриану ради бессмертия: и министры, «нажимая» на телефонное право, и граждане да гражданки всех мастей и профессий.
И лишь одна деревенская бабка пришла просить бессмертия для своей дорогой коровки… Образ скромной деревенской бабушки, вымаливающей бессмертие для своей воспитанницы — последняя дань уважения драматурга и своей пожизненной литературной программе, и той когда-то многолюдной и живой деревне, которой уже не было.
«Хто смяецца апошнім»: Крапива попал в нерв
«Зрители смогли увидеть и услышать: безосновательно никого в СССР не арестовывают. Даже Горлохватский остался на свободе. Честный человек (как Черноус, как Туляга) всегда имеет возможность доказать, что он ни в чем не виноват… Одним словом, кое-где действительно имели место некоторые перегибы. Но их уже разоблачили партия большевиков и лично товарищ Сталин. Поэтому честным советским гражданам, искренне преданным делу коммунистического строительства, нечего волноваться. Спите спокойно, ночью за вами никто не придет. Крапива удачно попал в главный нерв, мучивший тогдашнее общество. И, как мог, утешил его. …Создал сказку, которую подобно детям ждали люди «внизу» и которую посчитали очень полезной «вверху». — Кинорежиссер Владимир Орлов
«Остался бы в деревне — был бы Левон Бушмар»
В далеком уже 1987 году я напросился на короткое интервью с Кондратом Крапивой, которое переросло в пятичасовую беседу, по-своему интересную для обоих ее участников.
К Крапиве меня завел отец: без хорошей рекомендации я бы до него добирался долго и тяжело, и еще не факт, что добрался бы.
Тогда, в самом начале горбачевской перестройки, когда ветер грядущих глобальных перемен едва уловимо ощущался, а на литературном Олимпе было хоть пруд пруди забронзовелых литературных бонз, в разговоре со мной Крапива чем-то походил на умного, но вечно настороженного зверя. Хотя какая от меня, аспиранта, делавшего тогда первые шаги на выбранной дороге, могла исходить хоть сколько-нибудь серьезная экзистенциальная угроза для него, известного и признанного писателя?
Слева направо: Максим Танк, Кондрат Крапива, Аркадий Кулешов, Михась Лыньков. 1944 год.
Крапива оттаивал долго и медленно, недоверчиво и настороженно слушая мои вопросы, придирчиво осматривая меня светлоголубыми глазами. Я только спустя годы понял: это была горьким жизненным опытом наработанная позиция — видеть в новом человеке потенциального провокатора и стукача, несмотря на любые рекомендации. Как шутливо сформулировал это принцип Янка Мавр, «когда я вижу нового человека, я сразу же решаю, что он гад и негодяй, а если я ошибаюсь, то мне же еще и лучше».
Где-то на втором часу разговора он, слегка улыбнувшись, разрешил мне включить портативный магнитофон — материала было много, жаль было терять. Часу на четвертом мы разговорились об актуальной ситуации в литературе, в конце разговора он попросил меня не печатать это интервью до его смерти, оно у меня по сей день так и неопубликовано.
Оценивая себя на любом отрезке своей биографии, он был немного самоироничен, прагматичен и очень конкретен в ответах на мои вопросы. И нигде ни разу не проскользнула покровительственная нотка, ни разу он не позволил себе презрительного взгляда, не посмеялся над моей тогдашней наивностью. Он говорил о литературной сущности явлений, о непростых и запутанных процессах в ней, о трагических судьбах своей писательской генерации, о своих и чужих произведениях, — но с трезвой оценкой событий, ощущением относительности любого литературного успеха и анализом той или иной неудачи (например, собственной, не слишком удачной роли романиста), о современной литературе и сравнении ее с той, в которой прошла его бурная литературная молодость.
Праправнук Глеб в Низке, на этом месте стоял дом родителей Крапивы. «ЗВЯЗДА», ФОТО ЕВГЕНИЯ ПЕСЕЦКОГО
Помню, что я был очень впечатлен такой позицией, и еще более высоко оценил ее в последующие десятилетия — и в мемуарах, и тем более в закрытых беседах этот отчужденный и трезвый, немного самоироничный взгляд на себя со стороны достаточно редок.
На прощание он засмеялся и сказал: «Диссертацию ты напишешь. Женат? Нет? Ну, так подумай об этом. Жена — это в жизни не меньше, чем диссертация».
Живой и веселый, подвижный, только немного глуховатый, он совершенно пробил меня своей энергией, резвостью и прекрасным чувством юмора. На десятом десятке жизни. «Остался бы в деревне — был бы Левон Бушмар», — подумал я.